
Каменев Анатолий Иванович
Голая правда России
[Регистрация]
[Найти]
[Обсуждения]
[Новинки]
[English]
[Помощь]
[Построения]
|
||
| ||
|
||
| ||
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РУССКОГО ОФИЦЕРА
(из библиотеки профессора Анатолия Каменева)

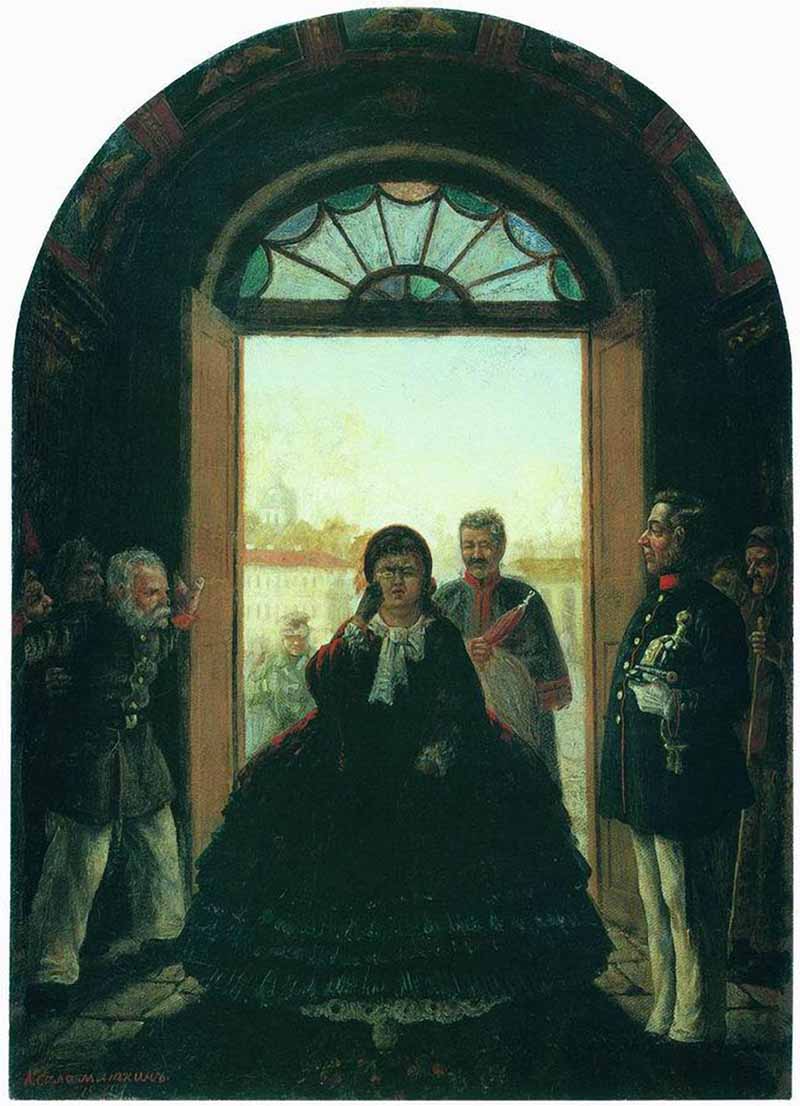
Россия.
"Губернаторша, входящая в церковь" 1864
Художник Леонид Иванович Соломаткин (1837-1883)
Г. Шавельский
ГОЛАЯ ПРАВДА РОССИИ
("Царю говорят правду")
"Его Величество есть самовластный монарх, который никому на свете о своих делах ответу дать не должен; но силу и власть имеет -- свои государства и земли, яко христианский государь, по своей воле и благомнению управлять".
Воинский устав Петра Великого
