
Каменев Анатолий Иванович
"Не подняться тебе, старик"!?
[Регистрация]
[Найти]
[Обсуждения]
[Новинки]
[English]
[Помощь]
[Построения]
|
||
| ||
|
||
| ||
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РУССКОГО ОФИЦЕРА
(из библиотеки профессора Анатолия Каменева)


"Портрет баснописца И.А.Крылова" 1834
Художник Эггинк Иван Егорович (1787-1867)
Анатолий Каменев
"НЕ ПОДНЯТЬСЯ ТЕБЕ, СТАРИК"!?
(Почему срабатывает инстинкт самосохранения, а не работает умная система воспитания воинов?)

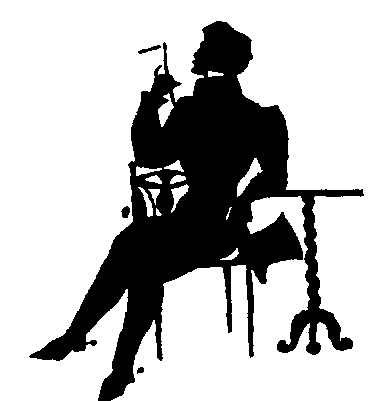
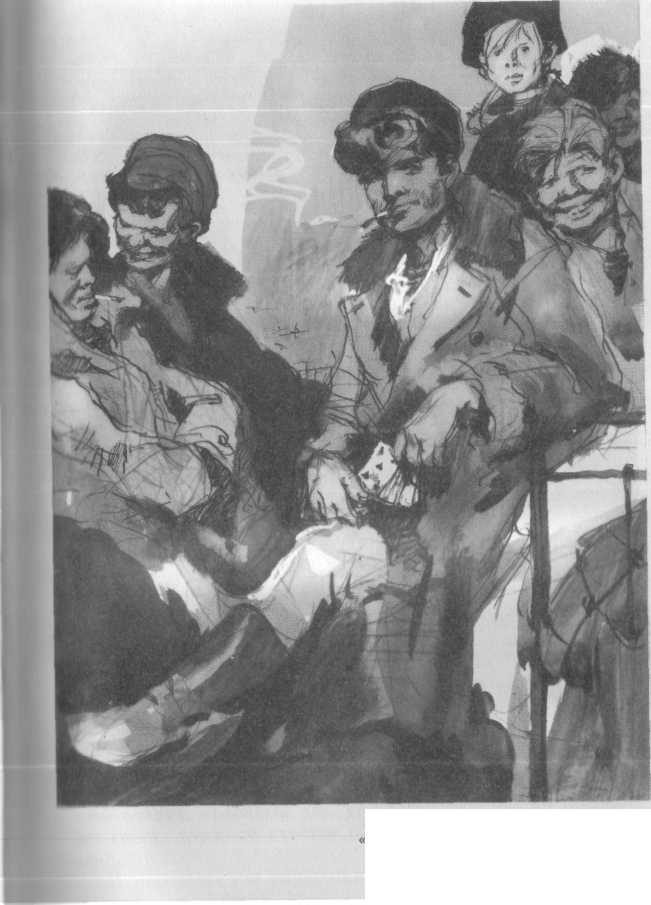
А.С. Макаренко
Мы не такие плохие, Антон Семенович!
(фрагменты из "Педагогической поэмы")
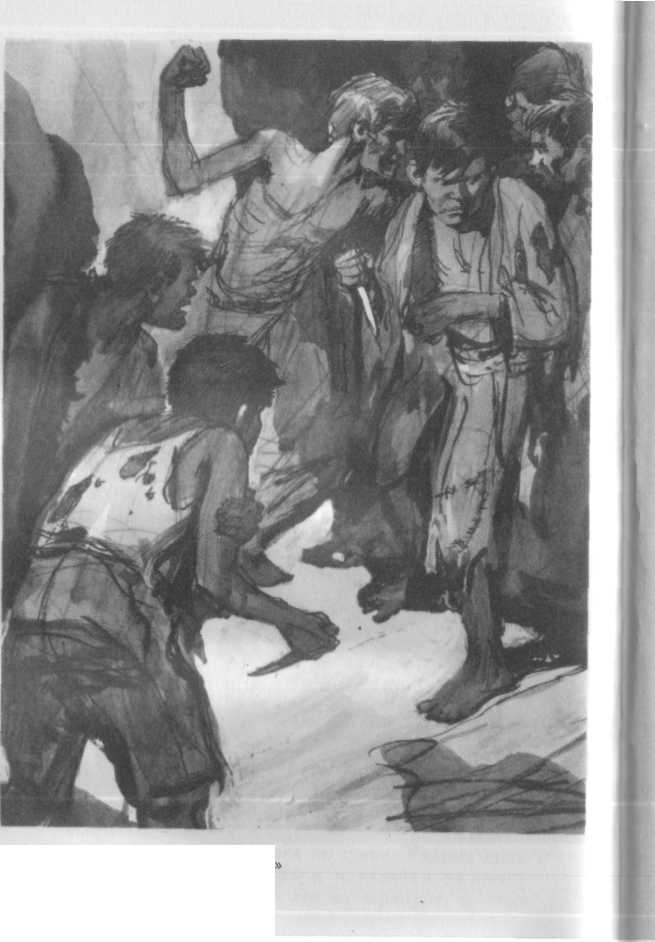
Я твердо решил, что буду диктатором ...