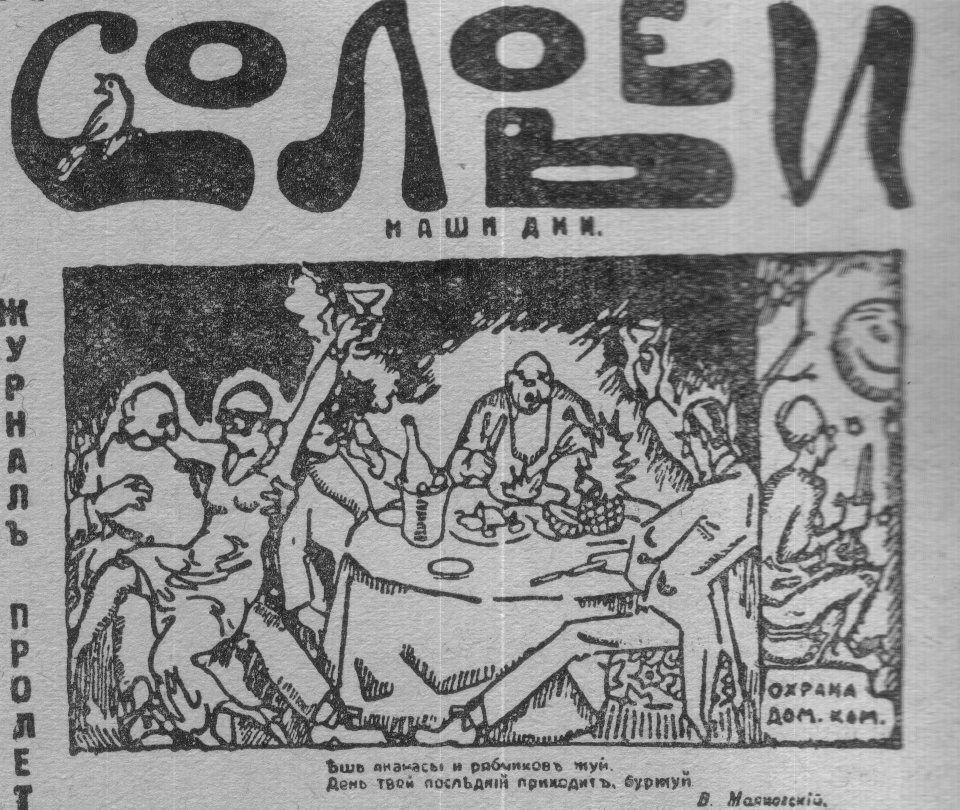Каменев Анатолий Иванович
"Офицеры шли с поднятой головой"...
[Регистрация]
[Найти]
[Обсуждения]
[Новинки]
[English]
[Помощь]
[Построения]
|
||
|
||
"Только некоторые офицеры шли с поднятой головой"...
А ведь у каждого был "венец карьеры" и жизни...

Вл. Маяковский
ИЗ "ОЧЕРКОВ РУССКОЙ СМУТЫ"
А.Н. Деникин
Приказ N 1
Приказ N 1.
Петроградский Совет
Рабочих и Солдатских Депутатов.
ПРИКАЗ N2