
Каменев Анатолий Иванович
"От Суда никому не уйти"...
[Регистрация]
[Найти]
[Обсуждения]
[Новинки]
[English]
[Помощь]
[Построения]
|
||
|
||
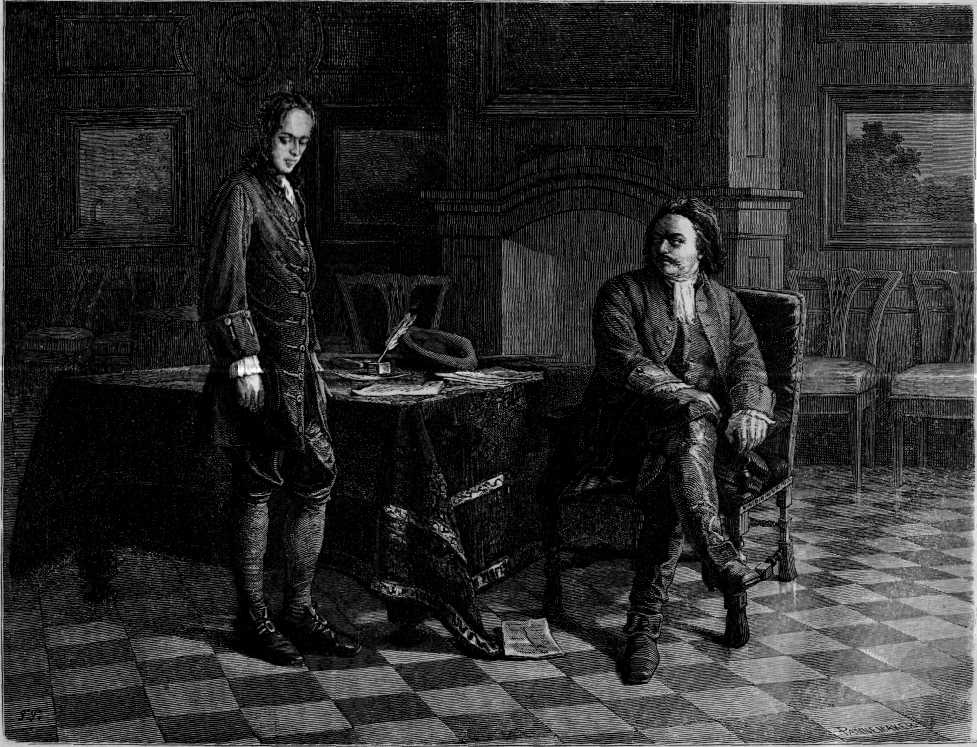
Петр I и царевич Алексей Петрович.
С картины проф. Н. Н. Ге. Рис. Г. Глушков.
А СУДЬИ КТО?

А. С. Грибоедов.
Гравюра Н. Уткина с портрета Е. Эстеррейха. 1829 г.
А судьи кто? --

Д. И. Фонвизин.
Портрет худ. Ж. Караф.
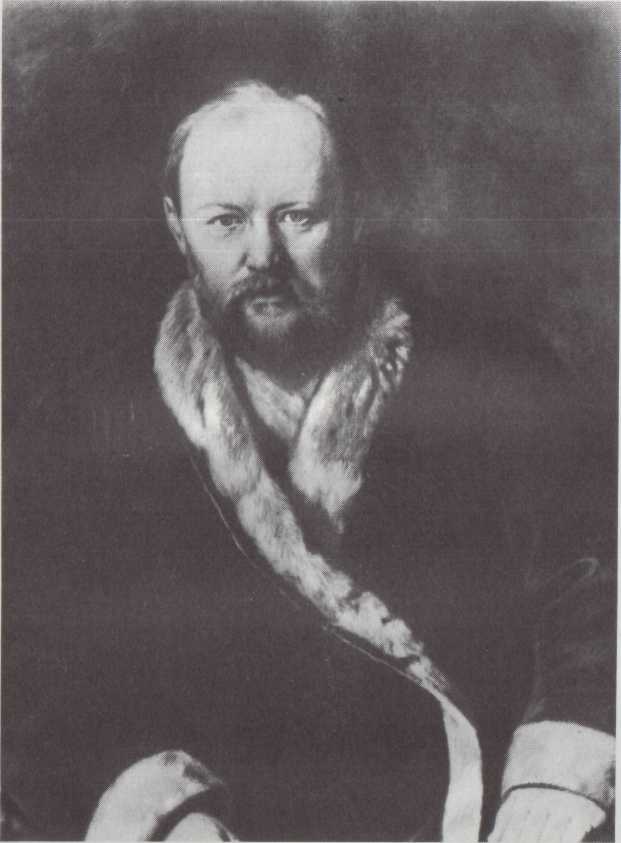
А. Н. Островский.
Портрет худ. А. А. Перова. 1871 г.

"Горе от ума"
Илл. худ. Н. В. Кузьмина к комедии. 1952 г.: Скалозуб, Хлестова, Загорецкий,
Репетилов.

Заседание Боярской думы