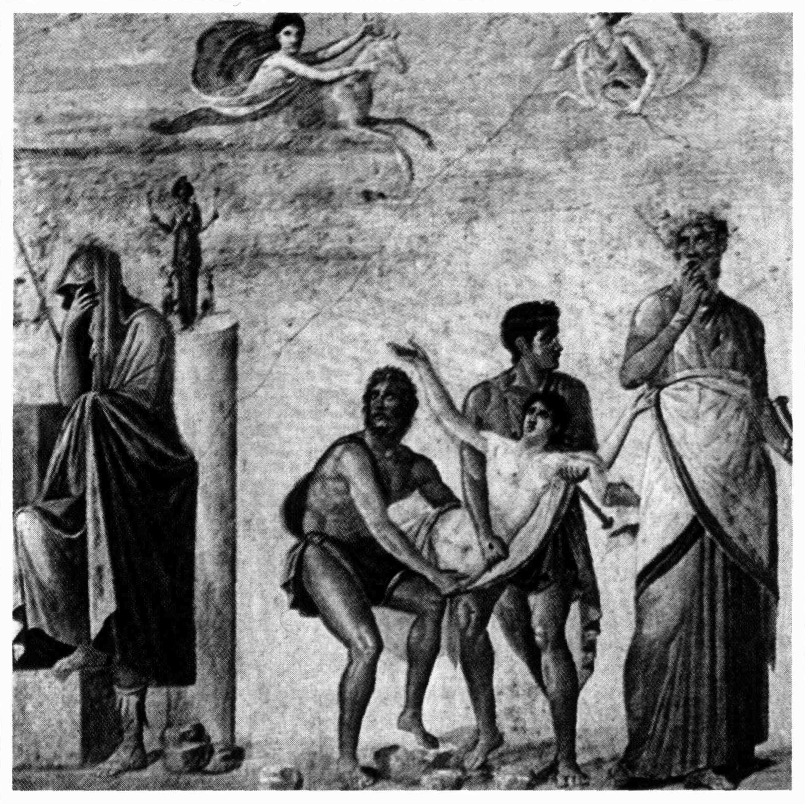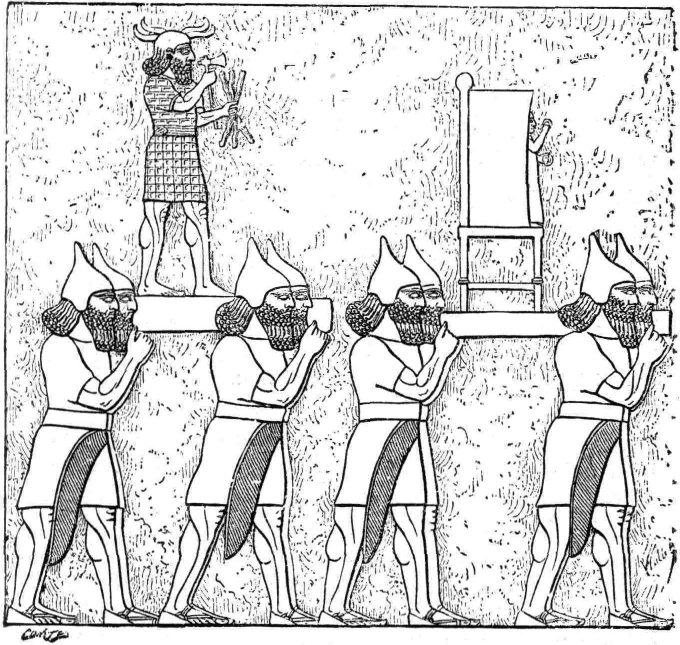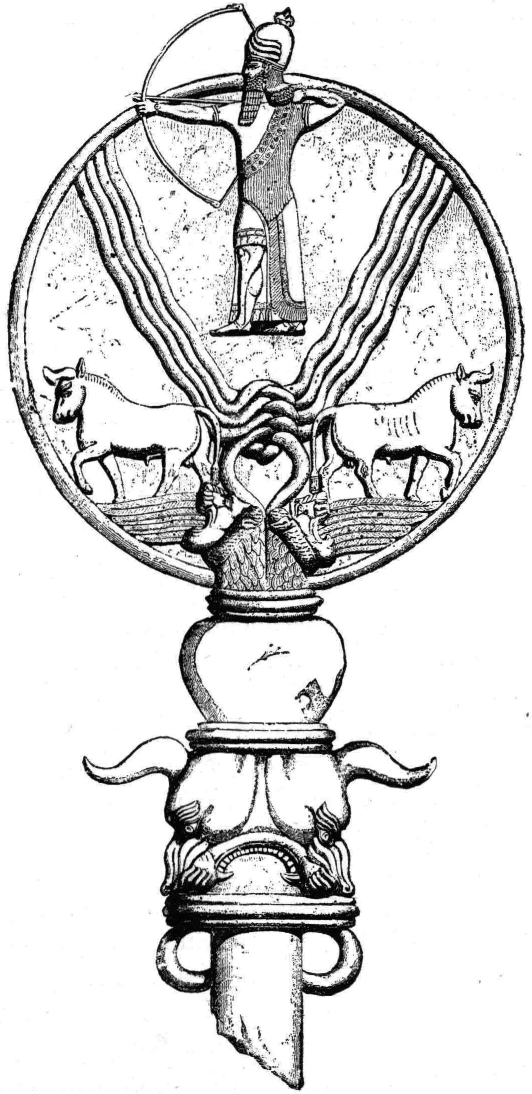Каменев Анатолий Иванович
"Падает дуб, подточенный червями"...
[Регистрация]
[Найти]
[Обсуждения]
[Новинки]
[English]
[Помощь]
[Построения]
|
||
|
||
"Падает дуб, подточенный червями"...

Петр I.
Мозаика М. В. Ломоносова.
1754.
Эрмитаж
"КТО НЕ ЛЮБИТ СЛУЖБУ - ТОТ НЕ ВОИН"
А.Каменев
(Моя новая книга "НАУКА ПОБЕЖДАТЬ")
Из истории о воинах И. Маслова:
(Фрагменты)

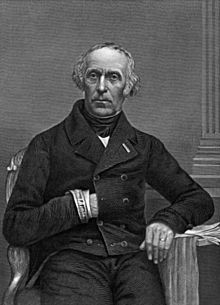

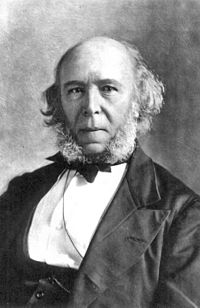
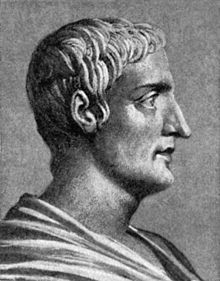
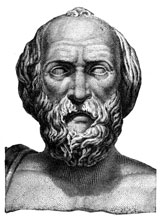

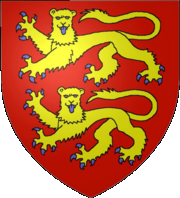
Разными были воины всех времен