
Каменев Анатолий Иванович
Придется держать ответ за войну
[Регистрация]
[Найти]
[Обсуждения]
[Новинки]
[English]
[Помощь]
[Построения]
|
||
| ||
|
||
| ||
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РУССКОГО ОФИЦЕРА
(из библиотеки профессора Анатолия Каменева)
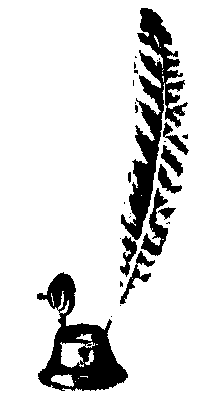

А. Бек
"ПРИДЕТСЯ ДЕРЖАТЬ ОТВЕТ ЗА ВОЙНУ"...
(фрагменты из кн. "Волоколамское шоссе")