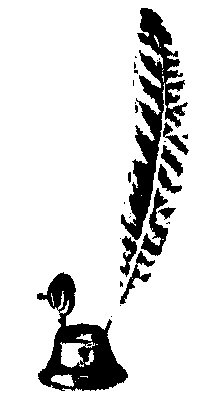Каменев Анатолий Иванович
"Сталин тогда сказал, что не надо дразнить... Гитлера".
[Регистрация]
[Найти]
[Обсуждения]
[Новинки]
[English]
[Помощь]
[Построения]
|
||
| ||