
Каменев Анатолий Иванович
Судьба и грехи России
[Регистрация]
[Найти]
[Обсуждения]
[Новинки]
[English]
[Помощь]
[Построения]
|
||
| ||
|
||
| ||
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РУССКОГО ОФИЦЕРА
(из библиотеки профессора Анатолия Каменева)


Выезд императора Петра II и цесаревны Елизаветы Петровны на охоту.
Художник Валентин Серов
СУДЬБА И ГРЕХИ РОССИИ
(фрагменты из статьи)
Г.Федотов

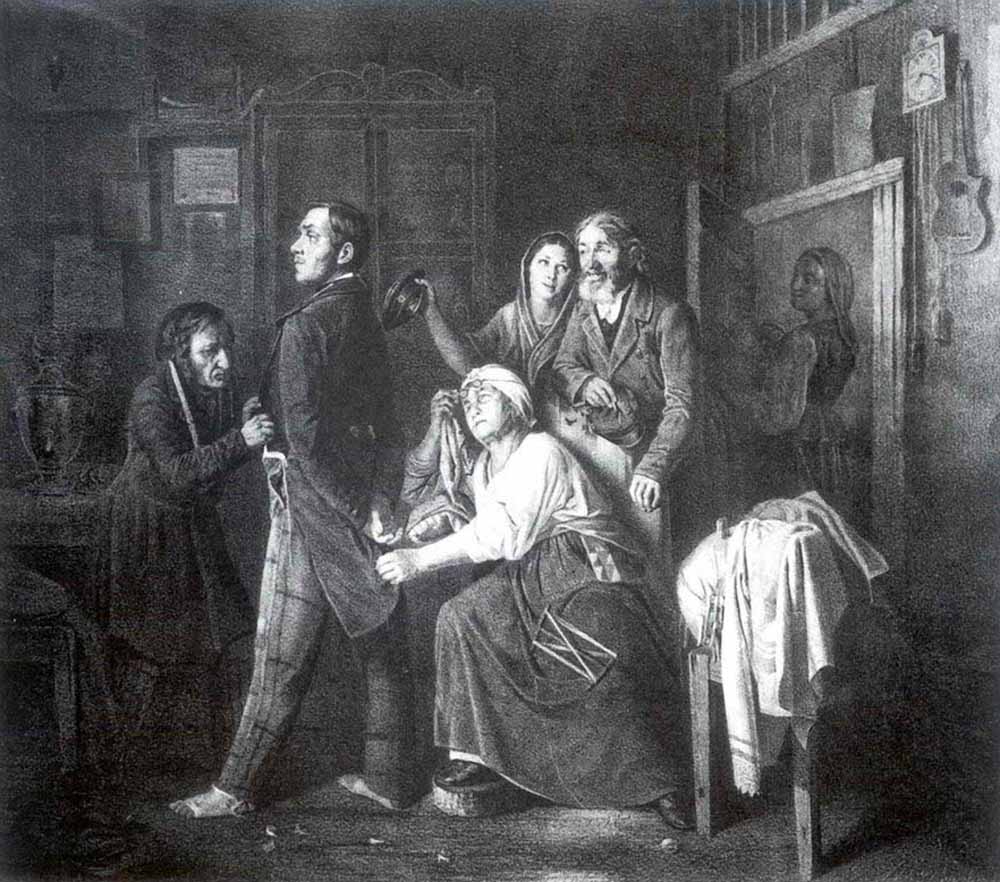
Россия.
Первый чин.
Сын дьячка, произведенный в коллежские регистраторы. 1860г..
Художник Перов Василий Григорьевич(1834-1882)