
Каменев Анатолий Иванович
Удар По "Логовицу" Глупцов
[Регистрация]
[Найти]
[Обсуждения]
[Новинки]
[English]
[Помощь]
[Построения]
|
||
| ||
|
||
| ||
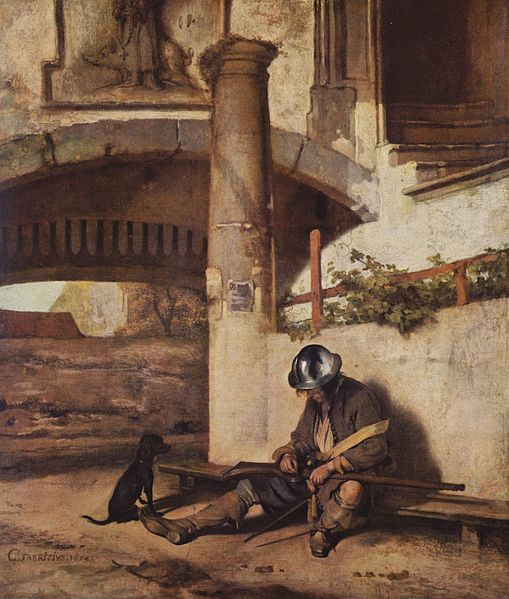
Спящий страж. Художник Карел Фабрициус
Анатолий Каменев
УДАР ПО "ЛОГОВИЦУ" ГЛУПЦОВ
Того, кто способен извлекать корысть из общественных дел, почитай готовым на святотатство, на окрадывание могил, на хищение у друзей, на предательство, на лжесвидетельство; подавая совет, он вероломен, творя суд -- нарушитель присяги, исполняя должность -- лихоимец, а если сказать все в одном слове, нет такого рода неправды, от которого он был бы чист. (Плутарх)

"Крестный ход на водоосвящение в деревне" 1858. Художник Иван Петрович Трутнев (1827-1912)

Уроборос.
(Символическое "принесение в жертву", то есть укус за хвост змеи, означает приобщение к вечности в конце Великого делания).
Гравюра Л. Дженниса из книги алхимических эмблем "Философский камень". 1625.

|
|
По всем вопросам, связанным с использованием представленных на ArtOfWar материалов, обращайтесь напрямую к авторам произведений или к редактору сайта по email artofwar.ru@mail.ru
(с) ArtOfWar, 1998-2023 |