
Каменев Анатолий Иванович
Узнать в лицо и изучить противника
[Регистрация]
[Найти]
[Обсуждения]
[Новинки]
[English]
[Помощь]
[Построения]
|
||
| ||
|
||
| ||
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РУССКОГО ОФИЦЕРА
(из библиотеки профессора Анатолия Каменева)
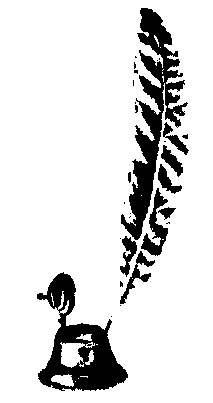
Ю. Бондарев
"ГОРЯЧИЙ СНЕГ"
(фрагменты из кн.)